
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Фаталист
|
|
К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов: Из наследия первой эмиграции/ Составление, вступительная статья и комментарии М. Д. Филина. - М.: Русскiй мiръ, 1999. - 288 с., ил.
Как прежде, так и ныне, нелицеприятный опрос широкой публики с бесспорностью обнаружил бы, что у поэзии Лермонтова куда больше интимных друзей и поклонников, чем у поэзии Пушкина, чтимой подавляющим большинством русских людей довольно официально и холодно. Такое предпочтение гениального ученика величайшему и совершеннейшему мастеру объясняется прежде всего именно крайней молодостью Лермонтова, естественной недозрелостью его юношеских чувств и дум. Недаром еще в 1828 году Баратынский писал Пушкину: «У нас в России поэт только в первых своих опытах может надеяться на большой успех: за него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли... Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все же не проза»1.
Залогом полнейшей правоты Баратынского служит его собственная вековая участь. Во всей мировой поэзии не отыскать большей обдуманности каждого слова, больших формальных совершенств и глубокомыслия, чем в творчестве Баратынского, и ничего нет печальнее его одинокой поэтической судьбы.
Высказанные мною соображения, конечно, нисколько не клонятся к умалению неоценимых достоинств поэзии Лермонтова. Я хотел лишь отметить, что она всегда была любима публикой не за свою глубочайшую сущность, а за незрелость, за юношеские наивно-эффектные позы и слишком частое словесное несовершенство. Но здесь необходимо тотчас же оговорить, что Лермонтов нисколько не повинен в широком опубликовании своих ученических опытов. Более того, никто из русских поэтов не обладал такой огромной силой самокритики, как Лермонтов. Все, что есть ценного в его поэзии, заключается в лирических стихотворениях и поэмах, напечатанных им самим при жизни. А все, что было в его стихотворчестве внутренне и внешне недозрелого, незаконченного, Лермонтов нещадно забраковывал и никогда в печать не пропускал. Так была забракована им, ставшая впоследствии знаменитой, поэма «Демон». Когда же двоюродный брат поэта, Столыпин, не испрося авторского разрешения, напечатал отрывок из этой поэмы, то Лермонтов сильно рассердился и долго не прощал самоуправства2.
Часто упоминал Лермонтов, и в стихах и в прозе, о врагах, будто бы ему угрожавших, и даже о «хитрой вражде», которая, по смерти поэта, «с улыбкой очернит» его «недоцветший гений». В действительности никаких врагов у Лермонтова при жизни не было. Не нашлось бы их и после его смерти, не будь на свете безответственных, законом не караемых издателей и критиков, неумеренно преданных дидактике и морали.
Много существует разных методов, применяемых в художественно-литературной работе, но безусловно лучшему из них следовали у нас Пушкин, Баратынский и Гоголь, трудившиеся упорно, неотступно над развитием предварительно бегло написанного черновика. Только при такой неотступности поэт, подобно скульптору из стихотворения Баратынского, «властвует  собой» вполне и познает до глубины собственный художественный замысел. Тогда, зажатый в его верной руке,
собой» вполне и познает до глубины собственный художественный замысел. Тогда, зажатый в его верной руке,
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой3.
Иначе трудится над своими произведениями Лермонтов. Нередко, написав начерно стихотворение и даже целую поэму, он навсегда покидал их и брался за другие темы и стихи. Несомненно, что и при такой порывистой работе постепенно копился Лермонтовым творческий опыт, создавались удачные отрывки и детали, достойные войти в новую поэму. Но все же в приемах Лермонтова не было постоянства и творческой экономии. И скоро минет сто лет, как недобросовестные и невежественные люди, пользуясь расточительностью поэта, помещают рядом с «Ангелом» и «Парусом» его беспомощные ученические опыты, вроде следующих:
Не смейся, друг, над жертвою страстей,
Венец терновый я сужден влачить,
Не быть ей вечно у груди моей!..
И что ж? Я не могу другой любить!
Как цепь гремит за узником, за мной
Так мысль о будущем - и нет другой4.
Последствия такой издательской недобросовестности чрезвычайно тяжело отозвались на судьбах русского стихотворчества. И как ни парадоксально мое утверждение, однако несомненно, что с Лермонтова, или точнее - с посмертных изданий его сочинений, начался у нас резкий упадок стихотворной культуры. Правда, вред, принесенный небрежным и неумелым опубликованием всех ученических упражнений Лермонтова, могли бы также причинить многие стихи лермонтовского предшественника - Полежаева, одареннейшего дилетанта. Именно он впервые пустил в обращение общие словесные сплавы, ничего не выражающие эпитеты и метафоры. Но Полежаев был и остался известным лишь крайне ограниченным кругам, тогда как стихи Лермонтова, и по преимуществу самые слабые, приобрели всероссийскую популярность. Все наши посредственные и просто плохие стихотворцы, вроде Фруга, Апухтина и Голенищева-Кутузова5, неизменно подражали дурным образцам лермонтовской поэзии и довели русский стих до писаний Курочкина и Вейнберга6. Но прискорбнее всего, что непонятный соблазн, источаемый стихотворными упражнениями Лермонтова, воздействовал на первостепенных наших поэтов: заставлял неустойчивого Некрасова снижать свое мастерство до уровня откровенно бульварных виршей; водил рукою одного из глубочайших русских поэтов, Случевского, когда он писал свои тяжеловесно-нелепые странно-притягательные поэмы, и наконец усилил прирожденную бесстильность Фета. Кстати, напрасно объяснял Иннокентий Анненский эту бесстильность немецкими влияниями: от немецких поэтов, как и от Державина, Фет усвоил только наилучшее, а на литературные истоки своей бесстильности он сам невольно указал, вспоминая в одной маленькой поэме студенческие годы, проведенные им в доме родителей Аполлона Григорьева. Описывая свою студенческую жизнь с Аполлоном Григорьевым на антресолях замоскворецкого дома, Фет добавляет:
...Как нам казались сладки
Поэты, нас затронувшие, все:
И Лермонтов, и Байрон, и Мюссе! 7
 Можно ли определить точнее литературную генеалогию фетовской бесстильности! К счастью, не одни недостатки перенял Фет у Лермонтова: сложнейшая и тончайшая фетовская мелодика многим обязана лермонтовской поэзии. Впрочем, иначе и быть не могло. И если, характеризуя лермонтовское творчество, отваживаться на широкие обобщения, как сделал это Владимир Соловьев, то следовало бы, наравне с Лермонтовым, выразителем, по мнению нашего философа, ницшеанских идей в русской поэзии, упомянуть имя Фета. Но духовного родства этих двух поэтов, кажется, никто еще не отмечал. А сближают их не только идеи богоборчески-ницшеанского порядка, но и свойственный обоим особый дар воздушного касания к вещам и явлениям земного мира. Этим и объясняется тесная органическая связь мелодики Фета с музыкой поэзии Лермонтова. Тому и другому подобала Эолова арфа.
Можно ли определить точнее литературную генеалогию фетовской бесстильности! К счастью, не одни недостатки перенял Фет у Лермонтова: сложнейшая и тончайшая фетовская мелодика многим обязана лермонтовской поэзии. Впрочем, иначе и быть не могло. И если, характеризуя лермонтовское творчество, отваживаться на широкие обобщения, как сделал это Владимир Соловьев, то следовало бы, наравне с Лермонтовым, выразителем, по мнению нашего философа, ницшеанских идей в русской поэзии, упомянуть имя Фета. Но духовного родства этих двух поэтов, кажется, никто еще не отмечал. А сближают их не только идеи богоборчески-ницшеанского порядка, но и свойственный обоим особый дар воздушного касания к вещам и явлениям земного мира. Этим и объясняется тесная органическая связь мелодики Фета с музыкой поэзии Лермонтова. Тому и другому подобала Эолова арфа.
Имя Владимира Соловьева я упомянул здесь совсем не случайно. Ведь если были у Лермонтова истинные недруги, то уж конечно не Мартынов, убивший его на дуэли и всю жизнь молчаливым раскаянием искупавший свой грех, и не император Николай I, сердившийся на поэта за беспокойный нрав и на корнета за нерадение к службе. Нет, настоящим недругом Лермонтова, не считая корыстных и глупых издателей, был и остался один Владимир Соловьев. Это он написал преисполненную дидактики и морали «христианскую» статью, в которой пытался доказать, что Лермонтов «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что ему было дано для великого подъема» и что, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает их привлекательными для неопытных», и сознание этого теперь, после смерти поэта, «должно тяжелым камнем лежать на душе его».
Мораль и дидактика вынуждают у Владимира Соловьева жуткое утверждение, что «бравый майор Мартынов был роковым орудием кары», вполне заслуженной Лермонтовым за поведение в жизни и за полную соблазна и демонизма поэзию. «Могут и должны люди, - по словам Владимира Соловьева, - попирать обуявшую соль этого демонизма с презрением и враждой, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человеко-убийственной лжи».
Неудивительно, что, высказывая подобные мысли, Владимир Соловьев отрицает за Лермонтовым всякую способность к любви и к человеческим привязанностям.
«Прелесть лермонтовских любовных стихов, - пишет он, - прелесть оптическая, прелесть миража». Выходит как будто, что наш философ стремится уличить поэта в эстетически-поэтической подделке, произведенной с целью хоть чем-нибудь прикрыть от людей свою душевную и духовную пустоту. Такой вывод из сказанного Владимиром Соловьевым мог бы все же показаться незаконным, но, очевидно, из желания довести дело до точки философ добавляет: «Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть рамкой, а не содержанием его Я, которое оставалось одиноким и пустым».
Напрасно уверяет нас Владимир Соловьев, что все, сказанное им о Лермонтове, внушено ему сыновней любовью к погибшему поэту и христианским желанием оградить неопытных от влияния этой демонической поэзии. Владимир Соловьев полагал, что, охраняя малых сих от соблазнов лермонтовской поэзии, он облегчает загробные муки погибшего поэта. Но для нас пребывает в силе остроумное замечание Мережковского: «Если такова любовь, что вбивает кол в горло покойнику, то какова же ненависть?»8
И все же в изуверской статье философа есть отдельные 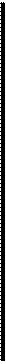
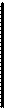 мысли о Лермонтове большой верности и глубины. Он первый назвал этого, во многом не разгаданного, поэта «русским ницшеанцем до Ницше», определив таким образом одну из важнейших категорий русской души, корнями своими уходящую в глубь российских веков. Конечно, еще до Владимира Соловьева русское ницшеанство было ведомо Пушкину, что само собою ясно выступает хотя бы в «Пиковой даме», из которой целиком, органически вырастает «Преступление и наказание» Достоевского. При этом не только Пушкин, живший и творивший задолго до Ницше, но и Достоевский не знали учения немецкого мыслителя о «сверхчеловеке», отбрасывающего, как негодную ветошь, во имя призрачных достижений, основы человеческого существования, начиная с религии. Отрицающий Бога или, как Лермонтов, вступающий с Ним в борьбу, делается игралищем древнего Рока, от нещадного ига которого избавило нас пришествие Христа. Отвергающий Божественную Жертву предопределяет, того не ведая, собственную судьбу, лишается духовной свободы и принимает последствия им же самим содеянного греха за нечто заранее предначертанное. Подменивший Богочеловека человекобогом или, по терминологии Ницше, сверхчеловеком, неизбежно превращается в фаталиста.
мысли о Лермонтове большой верности и глубины. Он первый назвал этого, во многом не разгаданного, поэта «русским ницшеанцем до Ницше», определив таким образом одну из важнейших категорий русской души, корнями своими уходящую в глубь российских веков. Конечно, еще до Владимира Соловьева русское ницшеанство было ведомо Пушкину, что само собою ясно выступает хотя бы в «Пиковой даме», из которой целиком, органически вырастает «Преступление и наказание» Достоевского. При этом не только Пушкин, живший и творивший задолго до Ницше, но и Достоевский не знали учения немецкого мыслителя о «сверхчеловеке», отбрасывающего, как негодную ветошь, во имя призрачных достижений, основы человеческого существования, начиная с религии. Отрицающий Бога или, как Лермонтов, вступающий с Ним в борьбу, делается игралищем древнего Рока, от нещадного ига которого избавило нас пришествие Христа. Отвергающий Божественную Жертву предопределяет, того не ведая, собственную судьбу, лишается духовной свободы и принимает последствия им же самим содеянного греха за нечто заранее предначертанное. Подменивший Богочеловека человекобогом или, по терминологии Ницше, сверхчеловеком, неизбежно превращается в фаталиста.
***
Тема предопределения или фатума неразличимо слилась у Лермонтова с его таинственной способностью предугадывать свою собственную судьбу и в то же время помнить те нездешние свои дни, «когда в жилищах света блистал он, светлый херувим». Вещун и прозорливец, он был околдован видением своего земного и загробного будущего, зачарован слышаньем своего домирного прошлого. И это не пустой словесный оборот, а точное определение необычайных духовных способностей этого гения. И самое главное, самое важное для нас в Лермонтове - неотступное, чудесное стремление уловить сочетанием слов небесную мелодию, пропетую ангелом его еще невоплотившейся душе. Мы знаем, что Лермонтов достиг своей небывалой цели, ибо в самом звучании его стихов и прозы поистине слышится «арф небесных отголосок», что-то неземное, но сущное, неизъяснимое, но доподлинно райское.
Конечно, не внешним, а внутренним слухом воспринимаем мы эти отклики ангельского мира, и нет ничего наивнее попытки обнаружить хирургическим рассечением трепетной словесной ткани, ныне модным формальным методом, почему именно так, а не иначе, звучат творения Лермонтова. Чрезмерно увлеченные изучением поэтики, мы забыли о тайнах поэзии, забыли вдохновенные слова Полонского о ветре неуловимом и невидимом:
Чу, поведай, чуткий слух,
Это ветер или дух?
- Это ветра звук для слуха,
Это вещий дух для духа.
О вещем духе Лермонтова, о его пророческом даре первым заговорил Владимир Соловьев. Вслед за христианским философом Мережковский показал нам подбором неопровержимых цитат, что поэт был не только провидцем собственного будущего, но и сохранял неведомыми путями память о своем домирном существовании. Мережковскому принадлежит также глубокая, к сожалению лишь бегло высказанная, догадка о происхождении лермонтовского фатализма. По мысли писателя, потому так сильно было в Лермонтове чувство Рока, что категории причины, необходимости лежат для нас в прошлой 

 вечности. Таким образом, человек, не оглушенный до конца земным рождением, но сохранивший, подобно Лермонтову, воспоминание о мистической прародине, предрасположен в какой-то мере к фатализму.
вечности. Таким образом, человек, не оглушенный до конца земным рождением, но сохранивший, подобно Лермонтову, воспоминание о мистической прародине, предрасположен в какой-то мере к фатализму.
Неизменно чувствуя за собой дыхание своего нечеловеческого прошлого, поэт одновременно видел свое будущее, встававшее перед ним как прямое продолжение неизбежного, как нечто заранее предначертанное Богом. Отсюда вырастала для Лермонтова неминуемость бунта, возникали его спор и тяжба с Творцом, якобы немилосердно лишившим нас свободной воли.
Существу, извечно несвободному, остается призрачный выбор - быть рабом покорным или уйти в своеволие, хотя бы по видимости заменяющее нам недоступную свободу. Поэт предпочел своеволие. И прав был Иннокентий Анненский, почуявший в Лермонтове родство не столько с отдаленным предком поэта, шотландским стихотворцем и пророком Томасом Лермонтом, сколько с русским разбойным бунтарем, удалым опричником Кирибеевичем. Недаром сам Лермонтов, словами своего героя, как бы признается нам: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце».
Русские своевольцы, конечно, не революционно-нигилистические, а стихийные, народные, нигилистами отвергаемые, исповедуют единое незыблемое для них положение, выраженное в краткой поговорке: «Чему быть, того не миновать». Эта безоглядная русская вера в предначертанность судеб - происхождения совершенно особого. Религиозная миссия России связана с концом истории, и в недрах нашего народа живут предчувствия неминуемой апокалиптической катастрофы. Неизбежность конечного крушения, порождаемую многовековыми грехами всего человечества, русская душа всегда воспринимала как нечто уже заранее предначертанное Богом.
Учение Православной Церкви о христианской свободе всегда встречало в России противовес в различных религиозных влияниях, принесенных с Востока, и до народного сердца доходило с трудом. Лермонтов, более чем кто-либо другой из наших поэтов, был носителем сокровеннейших русских чувствований, чаяний, воли и своеволия. Погруженный в самонаблюдение, поэт лишь однажды оторвался от страшной сосредоточенности на собственной участи и обратился к судьбам России. Тогда-то и обнаружилось, что он, в духовном согласии с народными недрами, живет и дышит предчувствием всемирного конца. Смутно уловил Лермонтов, через пророческое угадывание грядущих судеб России, дыхание последних апокалиптических свершений, и остается непостижимым, как могли быть доступны такие видения внутреннему зрению существа, едва вышедшего из отроческого возраста. Пятнадцатилетний мальчик заносит в свою ученическую тетрадку стихи, так и оставшиеся незаконченным черновым наброском:
Настанет год, России черный год,
С главы царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Не защитит низвергнутый закон;
Когда болезнь от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек, -
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в его руке булатный нож.
И горе для тебя, - твой плач, твой стон.
Ему тогда покажется смешон...9
В этих, еще детски неумелых, неуклюже сделанных стихах, пораженные, мы узнаем свершившееся на наших глазах и как бы видим темную ауру вокруг человека с булатным ножом, мистического предвозвестника всемирного конца.
Что должен был думать пятнадцатилетний мальчик, охваченный такими предчувствиями, видящий в непрерывном сне наяву свою и всеобщую судьбу? Неизбежность, порождаемую человеческим грехом, он принял за нечто Богом предначертанное, бунтовал, богоборствовал и укреплялся в своем русском своеволии. Тема предопределения или фатума как бы сама собой возникла в творениях поэта из его ясновидений и прозрений. Но с особой силой и четкостью развивалась она не в стихах, а в прозе Лермонтова. В этой прозе, как будто вчера еще только написанной, узнает современный читатель своего неумолимого и неотступного властелина, безраздельно владеющего его жизнью. Я говорю о том, кого так часто испытывали многие из нас в гаданиях и приметах, кому все мы ежедневно угождаем и служим.
Лермонтов был поэтом глубоко своевольным, бунтующим и потому резко отъединенным от соборно-христианского лона. Он ведал властвующего нами, сознательно испытывал его в поэзии и в жизни и бестрепетно искал с ним неравных встреч. Однажды, одолеваемый творческой тягой к познанию запретного, нечеловеческого, слишком близко подошел Лермонтов к истокам этой властительной силы и в грозовой июльский вечер собственным дыханием заплатил за дерзание. Можно сказать, что жизнь и творчество Лермонтова были всецело посвящены испытанию этой таинственной силы, разнородным состязаниям с нею, проводимым с бесстрашием, невероятным для смертного человека.
Сам Лермонтов не знал, по-видимому, когда соприкоснулся он впервые с началом неведомым и губительным. По крайней мере, в одной поэме, написанной им незадолго до смерти, он пытается объяснить свою веру в предопределение, предначертанность наших судеб, влиянием небес Востока, якобы невольно сблизивших поэта «с учением их Пророка». Однако мы хорошо знаем, что еще в раннем отрочестве зародилась в Лермонтове невозможная мечта о единоборстве с предначертателем человеческих судеб, с древним Роком, самовластно владеющим нами, не принявшими Голгофской жертвы, не внявшими Божественному призыву: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (От Иоанна 8, 31 - 32).
Спасительность христианского смирения Лермонтов чувствовал глубоко, и не знаю, нужно ли в доказательство этого лишний раз ссылаться на известного всем хрестоматиям кротчайшего Максима Максимовича, на молитвенное обращение поэта к Матери Божией, «Заступнице мира холодного».
Но сложная душа Лермонтова, до конца постигавшая и любившая в других все смиренное и простое, искала для себя иных путей, иного подвига.
Со слов Льва Толстого и главным образом Чехова, лучшим прозаическим произведением Лермонтова признана всеми «Тамань». Бесспорно, эта маленькая повесть, совсем не случайно открывающая по замыслу автора «Журнал Печорина», содержит в зародыше не только основные религиозно-художе  ственные идеи самого Лермонтова, но и завязь творческих грез Толстого и Чехова. Кроме того, читателю, обладающему искусством медленного чтения, «Тамань» дает возможность предощутить дыхание новой жизни, на рубеже которой все мы сейчас так томительно стынем. По торным, луннозавороженным путям «Тамани», по вольной морской стезе ее безвестных «честных контрабандистов» давно тоскует мир. И все же эта начальная повесть «Печоринских записок» уступает в совершенстве их заключительному звену, в художественном отношении ни с чем не сравнимому «Фаталисту».
ственные идеи самого Лермонтова, но и завязь творческих грез Толстого и Чехова. Кроме того, читателю, обладающему искусством медленного чтения, «Тамань» дает возможность предощутить дыхание новой жизни, на рубеже которой все мы сейчас так томительно стынем. По торным, луннозавороженным путям «Тамани», по вольной морской стезе ее безвестных «честных контрабандистов» давно тоскует мир. И все же эта начальная повесть «Печоринских записок» уступает в совершенстве их заключительному звену, в художественном отношении ни с чем не сравнимому «Фаталисту».
С «Тамани», сотканной рукой тончайшего мастера, еще не окончательно сошел налет романтических трафаретов, свойственных нашей литературе тридцатых годов прошлого века. Так, о пригородной мещанке, хотя бы преисполненной русалочьими соблазнами, не следовало Лермонтову говорить условным языком, безразлично применявшимся тогдашними литераторами к пейзанкам и маркизам.
«Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои... Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет... вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих... я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками...»
Правда, все эти условности вполне искупаются ритмическими чарами «Тамани», изумительной стройностью повествования, но отсутствие огненных поцелуев и ускользающих змей ничуть не повредило бы творчеству Лермонтова. А развивался он, как художник, с быстротой совершенно непонятной. «Фаталиста» отделяют от «Тамани» не годы - всего лишь месяцы, но в нем нет романтических штампов, в нем каждое слово до конца отражает беспощадную действительность. Даже хорошенькая дочка старого урядника, Настя, такая женственная при свете месяца, облечена в приметы хотя и легкие, но строго реалистические.
«Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» - сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула».
Замечательно, что начало и конец «Печоринских записок» - «Тамань» и «Фаталист» - одинаково развиваются от магии и в магии лунного света. Но если в «Тамани» декоративные подпоры условной романтики местами задерживают нарастание ночного волшебства, то в «Фаталисте» строго реалистический тон повествования, скептические, во всем сомневающиеся замечания автора лишь полнее дают ощутить скрытое присутствие в мире колдовской и безликой силы, безраздельно владеющей жизнью людей и уже намечающей среди нас очередного смертника.
Дальновидный и лукавый мастер Лермонтов знает, что ничто не вредит так искусству, как выраженная заранее восторженная вера в таинственное. Недаром признается Печорин, что присутствие энтузиаста обдает его крещенским холодом. Верить в «оккультные науки» Лермонтов предоставляет людям, подобным Грушницкому, а сам устами того же Печорина спешит скептически отмежеваться от сомнительных астрологических опытов, соблазнительно придающих людям «уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!»
К этой явной насмешке над людьми, чрезмерно падкими на  все таинственное, Лермонтов добавляет, с расчетом глубоко художественным: «И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли, и к чему это ведет?..»
все таинственное, Лермонтов добавляет, с расчетом глубоко художественным: «И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли, и к чему это ведет?..»
Лермонтова прельщали в «Фаталисте» не призрачно-отвлеченные рассуждения на тему о предопределении, не романтически-страшные рассказы о потустороннем в уютной комнате, при мерцании догорающего камина, а подлинная способность безликой запредельной силы проявляться и воплощаться в суровой действительности. Лермонтов не соблазнился легкой безвкусной игрою с мистикой, снабженной вещающими привидениями и провалами в адские бездны, он спокойно и сдержанно, даже несколько сухо, рассказал нам жизненный случай, который, если его на самом деле не было, мог бы бесспорно и несомненно произойти. И одной мысли об этом, в сущности, достаточно, чтобы ужаснуться жизненной тайне, привычно и потому обесцвечено называемой нами Роком, но неумолимой и неукоснительной, как пущенная в ход невидимой рукой машинная шестерня.
Конечно, труднее всего было для Лермонтова выбрать подходящего героя, могущего естественно и просто проделать над собою опыт с пистолетом, показать на деле непоколебимость своей веры в предопределение; словом, предоставить собственную персону в распоряжение зрителей для проверки зыбкого метафизического положения неопровержимой эмпирикой. Однако опыт опытом, а метафизическая авантюра здесь явно налицо! Кто же, спрашивается, способен на нее по преимуществу? Немец? Но при большой любви к метафизическим выкладкам немец не склонен производить их при помощи ненадежного курка. Прирожденный скептик, француз никакой метафизики, и в особенности авантюрной, не любит. Казалось, проще всего для Лермонтова было остановиться на русском, тем более что все действие повествования развивается в прифронтовой полосе, в среде офицеров российской армии. Но русский человек, несмотря на всегдашнюю свою готовность к небывалым опытам, недостаточно от природы выразителен, классичен. Притом, чтобы сделать повышенный жест правдоподобным в искусстве, требуется даль, перспектива, расстояние, примесь некоторой экзотики, чужеродности, непривычности. Выбор Лермонтова с удивительной остротою падает на серба. Славянин и младший брат русского человека, серб еще не утратил, подобно западноевропейцу, разностороннего вкуса к магическим опытам, хотя бы к самым прямолинейным и грубым. А выразительной внешности Вуличу было не стать занимать:
«Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждающая на губах его, - все это будто согласовывалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи».
Целя себе прямо в лоб, Вулич нажал на гашетку заряженного пистолета: осечка! Скептический Печорин, за минуту до того державший пари, что никакого предопределения не существует, знаменательно себе противореча, обращается к Вуличу: «...не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...»
Человек, только что преспокойно целивший себе в лоб, внезапно смутился: «...пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... - Он взял шапку, - добавляет рассказчик, - и ушел».
 Этот краткий разговор между Печориным и Вуличем в высшей степени важен для внутреннего хода всего повествования Лермонтова. Печоринские скептицизм и сомнение оказываются чем-то незначащим, внешним по отношению к чувству, заложенному в каждом из нас и безошибочно определяющему на лице ближнего скорую обреченность. Что же касается эксперимента с пистолетом, то по доказательности он сильно уступает боязни, охватившей Вулича при замечании Печорина. Опрометчивая выходка, даже самая отважная, не так убедительна, как безотчетно живущий в человеке и внезапно проявляемый страх перед неминуемостью судьбы.
Этот краткий разговор между Печориным и Вуличем в высшей степени важен для внутреннего хода всего повествования Лермонтова. Печоринские скептицизм и сомнение оказываются чем-то незначащим, внешним по отношению к чувству, заложенному в каждом из нас и безошибочно определяющему на лице ближнего скорую обреченность. Что же касается эксперимента с пистолетом, то по доказательности он сильно уступает боязни, охватившей Вулича при замечании Печорина. Опрометчивая выходка, даже самая отважная, не так убедительна, как безотчетно живущий в человеке и внезапно проявляемый страх перед неминуемостью судьбы.
Итак, короткий разговор-признание, разоблачающий наше подспудное знание о Роке, бесповоротно предрешает в «Фаталисте» распорядок дальнейших событий. После благословенной осечки вольные и невольные участники небывалого опыта расходятся по домам. При свете полного месяца, красного, как зарево пожара, Печорин возвращается домой пустынными переулками станицы. Его занимали все те же привычно скептические мысли, когда внезапно натолкнулся он «на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое». Присмотревшись, Печорин увидел, что это была свинья, разрубленная кем-то шашкой пополам.
Загадка со свиньей, по крайней мере с внешней стороны, разрешилась быстро. Два проходившие казака сказали Печорину, что они идут на поиски своего пьяного товарища-буяна, который, «как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало». В ответ Печорин объяснил им, что не встречал казака, и «указал на несчастную жертву его неистовой храбрости». Эти слова Печорина мы могли бы принять за чистосердечный юмор рассказчика, не разыграйся дальнейших трагических событий, в связи с которыми случай со свиньей не только, по существу, не разрешается для нас, но еще приобретает некий, поистине дьявольский оттенок.
Не успел Печорин, взволнованный поступком Вулича, заснуть в эту ночь, как услышал крики под окном: «Вставай, одевайся!» То были офицеры, пришедшие за ним. «Что?» - «Вулич убит».
Стремительность событий, опять-таки с внешней стороны, объяснилась очень просто. Пьяный казак, зарубивший свинью, на бегу повстречал возвращающегося Вулича и на вопрос: «Кого ты, братец, ищешь?» - ответил: «Тебя!» - и, полоснув шашкой отважного испытателя судеб, разрубил его от плеча почти до самого сердца.
Конечно, у каждого - своя судьба. Свинья - свиньей, и Вулич - Вуличем. Но отделаться от дьявольского параллелизма, навязанного нам Лермонтовым, мы все же не можем. Гибель человека, только что до того чудесно избежавшего смерти, гибель от шашки, замазанной еще не остывшей свиной кровью; рыскающий в ночи пьяный казак, одержимый вселившейся в него неведомой силой; при свете полного месяца, красного, как зарево пожара, неподвижная свиная туша - все это невольно воспринимается нами как нечто слитное, неразрывное и роковым образом породившее друг друга.
Крайне сжато и схематично все это может быть истолковано так: метафизическая авантюра, предпринятая Вуличем, пробуждает разгневанный Рок, дремавший дотоле в умолкнувших Перунах; потерявший себя от вина пьяный казак, избранный орудием Рока, как злобой разнузданный дух, набегает на ненавистную ему плоть; но прежде чем зарубить Вулича, неминуемо встречает и рубит свинью - греховный символ вуличевской попытки заглянуть в запредельное, потревожить Рок. Нечистая свиная кровь шашкой одержимого надругательски приоб  щается к крови человека, своевольно сорвавшего запоры с преисподней. И в довершение всего пьяный казак предается закону рукою изловившего его на следующий день Печорина, главного, хотя и скрытого виновника злой бури, подтолкнувшего Вулича на опрометчивый опыт с заряженным пистолетом. Символом неминуемой судьбы, воплощением Рока является в повествовании Лермонтова старуха, мать казака-убийцы, беззвучно шепчущая не то молитву, не то проклятие. Она сидела у нежилой хаты, в которую заперся не пожелавший сдаться властям ее преступный сын.
щается к крови человека, своевольно сорвавшего запоры с преисподней. И в довершение всего пьяный казак предается закону рукою изловившего его на следующий день Печорина, главного, хотя и скрытого виновника злой бури, подтолкнувшего Вулича на опрометчивый опыт с заряженным пистолетом. Символом неминуемой судьбы, воплощением Рока является в повествовании Лермонтова старуха, мать казака-убийцы, беззвучно шепчущая не то молитву, не то проклятие. Она сидела у нежилой хаты, в которую заперся не пожелавший сдаться властям ее преступный сын.
«- Побойся Бога! - обратился к нему старый есаул, - ведь ты не чеченец окаянный, а честный християнин. Ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь! (Подчеркнуто мною. - Г.М.)
- Не покорюсь! - закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.
- Эй, тетка! - сказал есаул старухе, - поговори сыну, авось тебя послушает...
Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой».
В безмолвном качании головой заключается ответ старухи. Ведь в это решающее для ее сына мгновение она олицетворяла собою неизбывную для нас, русских, поговорку: «Чему быть, того не миновать». И вряд ли, вопреки словам старого есаула, отличается чем-нибудь наша русская вера в судьбу от веры в фатум, завещанной Кораном «окаянному чеченцу».
Печорин, от лица которого ведется рассказ в «Фаталисте», несмотря на вызов, брошенный им судьбе, остается безнаказанным. Но за него, как и следовало ожидать, вскоре заплатил собственной жизнью сам Лермонтов, успевший до своей гибели поведать нам, по удачному выражению Владимира Соловьева, свой «сон в кубе»: Лермонтову живому снится Лермонтов мертвый, лежащий в долине, среди уступов желтых скал, которому, в свою очередь, снится женщина, одновременно видящая его во сне распростертым на песке злосчастной долины.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня - но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж южных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но, в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
Лучшего дополнения к «Фаталисту» Лермонтов оставить нам не мог. Именно так, убитый на дуэли, лежал он на песке в долине, один, покинутый своим убийцей и свидетелями драмы.
 И секундант поэта, князь Васильчиков10, на допросе у коменданта города Пятигорска невольно вспомнил эти стихи Лермонтова, говоря о крови, точащейся из раны по капле.
И секундант поэта, князь Васильчиков10, на допросе у коменданта города Пятигорска невольно вспомнил эти стихи Лермонтова, говоря о крови, точащейся из раны по капле.
В час кончины поэта одна из его кузин присутствовала на празднестве в далеком Петербурге. Внезапно сердце ее сжалось темным предчувствием беды. «Я чувствую, - сказала она подруге, - что с Мишей (так называла она Лермонтова) случилось что-то ужасное».
Но с особой убедительностью, невольно заставляющей верить в существование предопределения, звучат заключительные слова в «Фаталисте». Ставка Лермонтова на христианскую свободу оказывается битой, ибо сам Максим Максимович, по видимости кроткий, смиренный христианин, неожиданно обнаруживает свою непоколебимую веру в судьбу:
«- Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем...
Потом он примолвил, несколько подумав:
- Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»
***
«Два демона», по слову Достоевского, утвердились в русской художественной литературе - Гоголь и Лермонтов. Один из них все смеялся и, высмеяв человека, удалился, осиленный, быть может, злым духом, а другой бунтовал и грозил нам железным стихом. Всю свою сознательную жизнь Достоевский провел в творческой полемике с Гоголем, воскрешая и одухотворяя мертвые души. Совершенно самостоятельно пройдя через все соблазны человекобожества и преодолев их, по крайней мере в своем творчестве, Достоевский частично осудил Лермонтова в лице Кириллова и Ставрогина. Спор Достоевского с Лермонтовым развивался скрытно, подспудно и лишь однажды явно обнаружился как бы случайно брошенным, но весьма знаменательным замечанием: по существу определяя Ставрогина, автор «Бесов» неожиданно добавляет, что у этого его героя «в злобе, разумеется, выходил прогресс даже против Лермонтова». Откуда взялось здесь это страшное даже? Достоевскому исполнилось двадцать лет, когда Лермонтов погиб на дуэли, и он еще при жизни поэта мог слышать о нем, как о человеке, отрицательные отзывы. В них недостатка не было. Тургенев, вспоминая свою мимолетную встречу с Лермонтовым в 1840 году в петербургском салоне, заметил: «Недоброй силой веяло от него, невозможно было выдержать жесткий взгляд его темных глаз». В том же году Баратынский писал жене из Петербурга в Москву: «Познакомился с Лермонтовым, который прочел прекрасную новую пьесу; человек, без сомнения, с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское»11. (Баратынский по многим причинам не любил Москвы. - Г.М.)
Так относились к Лермонтову почти все знавшие его. Но отсюда еще не следует, что он погиб для вечности, как предполагает Владимир Соловьев. С таким предположением Достоевский никогда не согласился бы.
|
|