
Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Символизирующая функция объекта
|
|
Если теория субъекта с необходимостью является теорией о субъекте, она не может избежать того, чтобы одновременно не быть и теорией объекта, и теорией того, каким образом объект субъективируется и позволяет субъекту чувствовать себя субъектом. Такова теория символизирующей функции объекта, если мы готовы сопоставить развитие символизации с функцией субъективного и субъективирующего присвоения.
Именно поэтому психоанализ пытается углубить свое представление о символизирующей функции объекта и процессе символизации, именно поэтому он также модифицирует или должен соотнести некоторые грани своей теории, с тем, чтобы сделать их более адекватными своим претензиям ее понимания. Так, он должен, прежде всего, признать, что символизация не исходит из самой себя — она является плодом внутренней работы, которая требует большего, чем простое сдерживание разрядки; далее, он должен признать, что качество и природа интрапсихической связи столь же фундаментальны, как и их сугубо количественные аспекты. Наша концепция работы символизации должна интегрировать эти уточнения и, вследствие этого, быть изменена. Но эти уточнения сказываются также на нашей концепции интерсубъективной функции эдиповых объектов, и на нашей концепции, их «символизирующей», или потенциально «символизирующей», функции для субъекта.
Так, теория опоры 1905 года, не требовавшая от объекта ничего, кроме того, чтобы он был необходим для обеспечения самосохранения (ребенок должен был на базе удовлетворения своих телесных потребностей выработать собственные аутоэротизмы, чтобы подготовить почву своей настоящей и будущей сексуальности), не может более, в свою очередь, удовлетворять требованиям наших представлений о насущных потребностях первичной функции объектов.
Расширение клиники идентичностно-нарциссической патологии делает куда более острым то, что ранее могло бы оставаться относительно маскированным (я бы сказал, весьма относительно, поскольку эта проблема, несомненно, уже присутствовала — см. злобу «истерика» или магическое мышление «обсессивного» пациента), она ускоряет и уже ускорила безотлагательность пересмотра вопроса об особенностях и природе опоры символизации на объект и эдиповы объекты.
Впрочем, возможно, стоит отказаться от концепта «опоры», являющегося источником как единственной фигуры «поддержки», которую он обещает, так и
помощи, которую он находит со стороны телесной потребности, часто в ущерб «потребностям Я» (Д. В. Винникотт) или условиям возможности символизации и субъективности. Эти последние требуют лишь «поддержки», «опоры» со стороны окружения, если только не придавать этим терминам значительного расширения и не делать из них метафоры совокупности условий возможности репрезентативной активности.
Это также следует из все более и более явной многозначности концепта объекта в психоанализе, становящейся источником недоразумений и двусмысленностей, не все из которых имеют ценность «неясностей», необходимых для психической проработки, и, прежде всего, в том, что клинический концепт обнаруживает именно исторически критический характер субъективирующей функции признания другим-субъектом.
Обе эти трудности через понятие «опоры», или, даже, «опоры на объект», тяготеют к суммации эффекта размывания отношения переноса, которое, как кажется, не устанавливается между тем, что я бы обобщенно назвал раппортом с объектом или другим-субъектом, раппортом с символизацией как таковой и процессом и/или аппаратом символизации.
Только что я сформулировал первое из положений, которые я хотел бы выдвинуть в данной статье: характеристики первичного раппорта с объектом стремятся трансферироватъ в раппорт субъекта с активностью символизации и символическим «признанием», которого он может от этого ожидать.
А. Грин и Ж.-Л. Донне (1973) вслед за В. Бионом и теорией мышления, которую он предлагает, уже ясно показали, что в психозе поражение касается не только того или иного единичного фантазма, но, более обобщенно, — «аппарата символизации» как такового, «мыслилища»1, как его любил называть В. Бион.
Очевидно и понятно, что здесь оно присутствует, как мне кажется, в более диффузном или маскированном виде в совокупности идентичностно-нарциссической патологии и, без сомнения, содержится по ту сторону самих трансферных неврозов, даже если действие этого фактора и не достигает столь же катастрофического характера, как в психозе.
Различные способы психического функционирования представляют способы раппорта с символизацией, ее аппаратом и ее различными и специфическими функциями. Эти различия обнаруживают существование раппорта, отличающегося от репрезентативной активности, и ставят вопрос об историческом смысле этих различий, открывают возможность интерпретации этого раппорта.
Как я подчеркивал вслед за другими исследователями, это относится к раппорту субъекта с той частью аппарата символизации, которой является речь. Это также применимо и к раппорту, который субъект поддерживает с регистром первичной символизации, то есть с регистром продуцирования предметных репрезентаций, что становится очевидным при анализе различий в функционировании онирической активности и в зависимости от ее активности.
Писатели и в особенности поэты — здесь я, прежде всего, имею в виду тех, кто прямо работал с проблемой самой материи языка, например, Маларме, или, из более современных, — В. Новарина (см. Le theatre des paroles), такие стилисты, как Селин или Пруст, — являются заметными и даже
1 В оригинале неологизм «pensoir». — Примеч. А. Ш. Тхостова.
«культивированными» примерами этого отдельного и дифференцированного раппорта с аппаратом или самой материей языка; но часто об этом же менее шумно, менее явно свидетельствует, в свою очередь, «спящая речь» наших пациентов. Трансфер в подобных случаях служит уже не столько ориентиром установления отношения, которое анализируемые поддерживают с аналитиком или с самой психоаналитической ситуацией, сколько для того, чтобы достичь понимания дополнительным способом при целостном «использовании», которое они делают из анализа и его символизирующих приспособлений, а также из аппарата языка.
Именно при попытке понять, какая грань истории или предыстории вовлечена и трансфер, что именно подобным образом переносится в раппорт с механизмом и аппаратом символизации, особое внимание привлекает гипотеза репродукции, смещенная в раппорт с символизацией, раппорт с символизирующей функцией эдиповых объектов.
Помогает ли подобная перспектива, слегка отличная от тех, что стали относительно «классическими» в психоаналитической литературе, больше «углубить» или проявлять иные аспекты символизирующей функции объектов? Это то, к чему мое настоящее рассуждение пытается обратиться.
Вопрос о символизирующей функции объектов центрирован, прежде всего, на двух аспектах, двух условиях или предусловиях символизации.
Первый аспект имеет отношение к функции противовозбуждения или «противо-количества» окружения. Символизация или развитие репрезентативной способности требует, чтобы количество возбуждения, связываемое символизацией, было бы относительно умеренным и не превышало возможности ребенка 1.
Таким образом, станет возможным переход от перцептивной галлюцинации к простой репрезентации вещи, опирающейся на «противо-количество», предложенное объектами. Иначе говоря, можно подчеркнуть, что то, что является главным фактором воспринятого возбуждения, отсутствие объекта или сепарация с ним, не превышает по своей длительности возможности субъекта установить, благодаря репрезентации, психическую непрерывность, необходимую для чувства непрерывности бытия или для его установления.
Второй аспект «углубляет» условия запуска этого противовозбуждения, намечая в качественном факторе триангулярной организации свою главную ось, эдипов аттрактор. Согласимся с тем, что квалификация через материнский объект своего отношения или своего желания третьего (реализованного либо окольным путем — ссылкой на отца в речи и желании матери, либо на того, кто, следуя формуле М. Фэна, зарабатывает, либо через «цензуру любовницы»1, или же — возвращаясь к Фройду — через порождение различных метафор
1 В оригинале «infans» (лат.) — маленький ребенок, обычно до одного года, и не имеющий речи. — Примеч. А. Ш. Тхостова.
2 «Цензура любовницы» — термин, введенный М. Фэном и Д. Брауншвейг для описания метафорической интерпретации ребенком ухода матери на фазе ранней триангуляции. Мать не должна превращаться в постоянно присутствующую и принадлежащую ребенку «любовницу», она должна периодически отсутствовать, иметь гипотетическую личную жизнь и право на нее. — Примеч. А. Ш. Тхостова
287
«угрозы кастрации, произносимой матерью и ожидаемой от отца») позволяет субъекту выйти из пресимволической и антисимволизирующей умозрительности.
Нет символизации без эдипового способа организации, нет символизации без разрыва между двумя другими субъектами, которые устанавливают третичную, функцию и процесс метафоризации от одного к другому. Противовозбуждение является, прежде всего, плодом тройственности, придающей организующие свойства парным различиям, полам, поколениям.
Подобные метки, обеспечивающие матрицу символизирующей функцией эдиповых объектов, не кажутся мне достаточными, чтобы осмыслить особую клинику, которая питает мои настоящие разработки. Эдип и его функция аттрактора-связи для символизации подчеркивает общее условие этого процесса, рамки ее реализации. Он описывает то, что должно быть присвоено и связано, но недостаточно уточняет, ни как это присвоение может осуществиться, ни как оно может не удаться. Эдип одновременно содержит то, что нужно символизировать, и то, как нужно символизировать, но в столь общем виде, что его конкретное воплощение требует уточнения, а условия его субъективного присвоения остаются достаточно размытыми, по крайней мере, в первые моменты своей актуализации.
Второй уровень отношения диалектизируется в первой попытке лучше раскрыть особенности актуализации этой матрицы или этой общей рамки. Речь идет об отношении к контейнирующей функции матери или родительской пары и об отношении к тому, что находится по ту сторону функции «материнской грезы». Здесь, так же как и в функции «зеркала» первичного окружения, описанного Винникоттом, сделан шаг в направлении становления модальностей первичных связей, которые делают возможным энергетическое удержание, необходимое для активности символизации. Общая модель выявляет рефлекторную функцию ответов объекта на волнения, беды и импульсы субъекта. Именно из модели наличного присутствия объектов субъект должен черпать материалы свой репрезентативной активности, а не только в их хорошо «темперированном» отсутствии.
Эта модель кажется более удовлетворительной, чем другие, особенно если «способность матери к грезам» сохраняет общую метафорическую функцию, чтобы обозначить совокупность средств, которыми объект пользуется, чтобы прийти па помощь субъекту и позволить ему связать и контейнировать разрывы его ощущений и первых аффектов. Абстрактность формулировок В. Биона по поводу трансформации элементов бета в зависимости от альфа парадоксальным образом приобрела метафорическое значение в интераналитическом обмене.
Работа метафоризации важна, она «собирает» вопрос, «содержит его в себе», прежде чем ее специфические ветви, скрытые конфликты, затушеванные парадоксы не станут проявлены. Тогда можно попытаться испытать работу деметафоризации, которая не оставляет лицом к лицу со слишком сильной огрубленностью формулировок и не замыкает в некой модели, безусловно важной — модели фантазма или сна — но, тем не менее, ограниченной, прежде всего, из-за сложности вопроса.
Заметим сначала, что в различных моделях, упомянутых выше, остаются неразрешенными две проблемы, два вопроса, которые делают необходимым обращение к некоторым теоретизациям Д. В. Винникотта.
Первая проблема касается перехода от символизации и первичного связывания, «предложенного» объектом, его поведения и его «грез» к символизации-плоду психической работы самого субъекта. То есть к работе деконструкции-конструкции субъективного и креативного присвоения символизации самим субъектом. Она совсем не рассматривается, насколько мне известно, В. Бионом, а в других случаях часто бывает погребена под ссылками на идентификационный процесс. Однако ответ через идентификацию недорого стоит, поскольку, более точно, это есть процессы, скрытые под символической и символизирующей идентификацией, которые нужно объяснить и которые следовало бы учитывать.
Вторая касается проблемы сочленения двух сторон символизирующей функции объектов. Они являются одновременно — это трудность, которую я отмечал выше по поводу Эдипа — объектами для символизации в их различии, в их двойственности, их нехватке, и объектами, «чтобы» символизировать. Разумеется, здесь эдипова матрица также предоставляет удобную структуру проявления, но, в то же время, она предлагает и средство, о котором свидетельствует именно клиника нарциссических идентификационных расстройств. Можно надеяться «символизировать» отличие одного из объектов от других и наоборот, производя, таким образом, дизъюнкцию отношения для символизации и отношения, чтобы символизировать. Эта форма «триангуляции», к которой мысль аналитика может возвращаться в течение сеанса, служащая ему одновременно и для символизации, и чтобы символизировать, есть, однако, лишь первый ориентир, особенно если трудность всегда трактуется подобным образом. Распределение на два амбивалентных полюса затушевывает настоящую работу конфликтности, заключающуюся именно в возможности столкнуться и проработать с самим объектом двойственность, причиной которой он является.
Эта двойная необходимость встретить двойственность объекта и символизировать вместе с объектом эту двойственность определяет встречу с тем, что я называл ранее другим-субъектом. То, что эта символизация не может быть тотальной, является клиническим фактом, но важность ее передовой линии будет являться определяющей в возможности субъекта символизировать с третьим (см. функционирование аутоэротизма) нехватку и неполноту, воспринятую в отношении с объектом.
Когда я начал представлять объект моей настоящей работы, я постарался не использовать «классический» термин «объектное отношение», умышленно предпочтя ему вероятно более расплывчатый концепт — раппорт с объектом. В «Игре и реальности» Д. В. Винникотт предложил концепт, который не имел такого успеха, как концепция транзиторности, но который, однако, позволяет осветить трудности, которые я собираюсь обнаружить. Рядом с регистром объектного отношения, которое касается способа отношения, поддерживаемого с объектом, отделенным и дифференцированным на некотором фоне, Винникотт предлагает выделять проблематику использования объекта. Раппорт с объектом касается диалектики, которая устанавливается между объектным отношением и использованием объекта.
Я хотел бы предложить идею, которую регистр использования объекта касается совершенно особым образом, то, что я назвал объектом для «символизации». Он касается объекта в той мере, какой он предуготовлен к игре символизации субъекта, в какой он готов стереть или приглушить
напоминание о своей двойственности, чтобы допустить ее. Использование объекта продолжает, таким образом, особенно в области потребностей Я, первичную материнскую заботу. Она проявляется, в частности, в моменты интерсубъективиой игры, обретающие значение ситуаций или моментов символизации.
Чтобы уловить соединение объектного отношения/использования объекта в контексте вопроса о символизирующей функции объекта, необходимо напомнить винникоттовскую концепцию генеза открытия двойственности объекта.
Тогда как психоаналитики (начиная с 3. Фройда и статьи Ш. Ференци, 1913) имели обыкновение производить открытие «реальности» или, скорее, внешнего характера объектов, исходя из фрустрации, навязанной ребенку в виде отсутствия, то есть прямо порождать открытие реальности из фрустрации, а мышление и символизацию из галлюцинации, порожденной отсутствием, Д. В. Винникотт предлагает усложнение данной последовательности, начиная с происхождения вопроса использования объекта до его артикулирования вместе с деструктивностью.
Прежде всего, первая фундаментальная модификация. Винникотт предлагает считать, что галлюцинаторный процесс совершается только в случае возрастания давления «влечения» (но можно ли уже говорить о влечении в строгом смысле термина?) не только в случае отсутствия объекта, а в любом случае. Галлюцинация возникает в ответ на нарастание влечения, а не в ответ на констатацию отсутствия объекта, она независима от реальности объекта. Галлюцинация и восприятие — не альтернативы, первая может возникать и в присутствии объекта. Именно таким образом возникает проблема галлюцинаторной связи или возбуждения влечения объектом, проблема «первичной» связи.
В случае отсутствия объекта, возбуждение влечения и галлюцинация будут рассматриваться либо как эвакуационная разгрузка, либо как способ связывания и смешения in statu nascendi (что напоминает, конечно, первично-мазохистскую связь).
Если, напротив, объект присутствует, и если ответ объекта «согласован» с этим галлюцинаторным процессом, он [ответ] лежит в основе найденного-созданного и трансформации галлюцинации в иллюзию. Позднее, в какой-то момент, в связи с эффектом «цензуры любовницы» или снижением первичной материнской озабоченности, установленный и достаточно имплантированный регистр первичной иллюзии, эта «соразмерная» адаптация, ослабевает, ставит под угрозу первичную иллюзию самосозданного удовлетворения (или неудовлетворения, также «найденного-сделанного»), тип первичной связи, которая установилась благодаря объекту и его заботе, — и дополнительный шаг в развитии может быть опробован ребенком.
Угроза, нависшая над первичной иллюзией, запускает влечение к деструктивности, связанное как с горем, так и с яростью перед испытанной неудачей, связанной с несогласованностью материнского поведения.
Именно здесь Винникотт предлагает вторую модификацию теории структурации психики. С классической точки зрения, «внешнее» было открыто, разумеется «в ненависти», как пишет 3. Фройд,
1 В состоянии становления (лат.). — Примеч. А. Ш. Тхостова.
но прямо исходя из фрустрации и деструктивности, в качестве оппозиции к ней. Винникотт, напротив, считает, что рождение «внешнего» зависит от «ответа» объекта на деструктивность субъекта. Здесь начинается регистр объектного отношения и использования объекта. Как можно видеть, модификации, предложенные Д. В. Винникоттом, имеют следствием введение еще одного этапа, этапа, результатом которого является если не функция, то углубление места ответа объекта в процессе символизации ребенка.
Чтобы быть открытым, объект должен «пережить» деструктивность, что включает обязательность трех характеристик в его «ответах» на нее: отсутствие «убежища» — объект должен показывать себя психически присутствующим; отсутствие репрессий и обращения — объект не должен силой побуждать отношения с субъектом. Однако эти две характеристики, называемые первичными и часто единственными, недостаточны, объект — и в этом он заявляет о своем существовании как другой субъект, — должен сойти с орбиты деструктивности, чтобы вновь установить контакт с субъектом: он должен показать себя творческим и живым. Именно это возобновление контакта является критическим в открытии внешнего характера объекта, остальные две находятся в основании лишь предусловий, необходимых для того, чтобы оно произошло.
Строго говоря, работа символизации по-настоящему рождается, начиная с этого первого упора деструктивности: связь может пережить атаку, лучше раскрывает себя в и через атаку, как связь деструктивности, которая была туда включена.
С этого момента «атака связей», подчеркнутая В. Бионом в нарциссической патологии, появляется как попытка найти вновь, или, скорее, наконец, найти тот опыт, который я предложил называть опытом разрушения/нахождения объекта. С этого же момента, возможно, уже не стоит прибегать к «конституциональной неспособности к фрустрации», чтобы объяснить некоторые трудности в становлении аппарата символизации, но скорее (а это линия, которую имплицитно предлагает Винникотт) обратиться к недостаточности ответов объекта, для того чтобы связать первичную деструктивность.
Так объект открывается в своем внешнем качестве, а объектное отношение, с необходимостью амбивалентное, сможет состояться. Объект «выживает», он «обнаруживается» как объект влечения, он любим. Но, благодаря этому же, субъект становится зависимым от него; объект может отсутствовать, его может не хватать, и поэтому он окажется ненавистным.
Начало работы первичной символизации возникнет из необходимой работы по реорганизации «задним числом» мира опыта первичной иллюзии, в зависимости от этой нового «расклада» субъективного опыта.
Таким образом, если через разрыв, введенный объектом на базе своей первичной адаптации к потребностям субъекта, то есть через введенный таким образом упор, открывается поле опыта, благодаря которому начнется сложный процесс, который приведет к символизации, то именно через «ответ объекта» на деструктивность, подобным образом мобилизованную, устанавливаются предусловия, чтобы работа символизации оказалось возможной. Объект является здесь сколь же тем, во что упирается первичная иллюзия, столь и тем, что позволяет, чтобы деструктивность стала возможностью структурирующего открытия. Он действует как собственной границей, так и той, которую он
налагает на деструктивность ребенка. Развитие и прогрессивная интеграция не происходят сами по себе, оставленные лишь внутренним процессам субъекта, они структурируются только в сопровождении адекватного ответа эдиповых объектов, если ребенок не оставлен в одиночестве блуждать в своих разрушительных тупиках. Трансформация иллюзии и деструктивности в движущие силы репрезентативной активности не может осуществиться без посредничества объекта.
Следующим этапом является этап презентации объекта. По мере того, как первичная материнская забота убывает для сглаживания эффекта этого изменения, необходимо, чтобы объект предложил ребенку замещающую процедуру того, что у него только что изъяли. Объект предлагает объекты и «предлагает» ребенку перенести испытанный недостаток в адаптацию, на объекты, призванные таким образом стать первичными символами. «Объекты для символизации» должны будут, таким образом, принять эстафету того, что объект уже не обеспечивает ребенку или, по крайней мере, для того, чтобы помочь уменьшить разрыв, который все время устанавливается между «найденным» и «созданным». Таким образом, устанавливается диалектика между тем, что ребенок может продолжать черпать прямо из объектного отношения и тем, что он будет должен обеспечить себе с помощью символизации. Условием этой приманки репрезентативной активности является, по-видимому, то, что ребенок не слишком чувствует свою зависимость по отношению к объекту, ни рану своей незрелости и своей относительной немощности. Работа символизации позволяет дополнить адаптивное усилие объекта и снизить это адаптивное усилие с тем, чтобы сделать ответ объекта «достаточно хорошим» для нарциссизма ребенка.
Это является частью символизирующей функции объекта: предоставить ребенку то, что позволяет достаточно сгладить недостаток, происходящий из отношения с ним. Именно так границы, воспринятые в объектном отношении, «выходят» на необходимость использования других объектов, «чтобы символизировать» и заполнить недостаточность самого объекта. Последний, таким образом, «предлагает» перенос и лечение своей нехватки на активность символизации и объекты, которые делают ее возможной. Это «предложение» объекта необходимо для возможности ребенка использовать объекты, чтобы символизировать нехватку объекта. Еще раз: только через метафору можно идентифицировать «предложение» объекта о введении отцовской функции. Последняя хорошо проявляется в линии, профилированной таким образом, но она представляет лишь особую форму, свой вырабатываемый горизонт, даже если является особенно структурирующей. Мне даже кажется вполне вероятным, что она произведет действительно структурирующие эффекты, только если ей предшествует широкое «использование» объектов для символизации.
Теперь нам стоит подумать о природе и функции объектов внутри их смешения с объектным отношением, для которого они являются местом переноса-трансформатора.
Первое замечание, которое я хотел бы сделать по этому поводу, продолжает мои предыдущие ремарки. Необходимо, чтобы «символизирующие-объекты»
были предложены самим объектом и чтобы их использование встречало его согласие, и даже поощрение.
Через предложение других объектов объект начинает открывать поле дифференциации между объектным отношением и использованием объекта. Субъективное присвоение работы символизации предполагает перенос и предполагает, что ему будет способствовать первичное окружение, то есть что оно принимает смещение некоторых его характеристик на другие объекты, смещение, благодаря которому «секрет» символизации сможет быть мало-помалу раскрыт: это особенно касается того, что относится к использованию объекта.
Но согласие объекта также необходимо и по другой причине, связанной, в свою очередь, с аутоэротизмами, мобилизованными репрезентативной активностью и субъективным присвоением, для которого он создает условия появления. Возможность играть с первичными объектами-символами сопровождается развитием аутоэротизмов — здесь ясным образом различаются модальности ауточувственности, которые не включают репрезентативной активности, дифференцированной от галлюцинаторной деятельности — она сталкивается с той же глубинной проблематикой, что и они, с той же проблематикой, что и вторичная нарциссическая активность. Они являются прибавлением к объектам, согласно проливающей свет формуле 3. Фройда. Здесь это означает, что присвоение «objeu», как «ауто» активности, и в особенности аутоэротизмы, переживается как «захваченное», «вычтенное» из объектов, вовлеченное в игру или в репрезентацию, сопровождаемое страхом и/или желанием лишить их обладания, которыми хвастается репрезентативная активность. Эти формы активности и работа автономизации, горя, которые они включают, всегда испытывают объект на способность «выжить» в субъективном присвоении, допускаемом и осуществляемом ими.
Удовольствие, которое они содержат, «боится и желает» одновременно лишить объект его собственного удовольствия. Новые возможности, которые они предоставляют ребенку, сталкиваются с вопросом знания того, осуществился или нет этот опыт против и в ущерб объекту.
Таким образом, поставлен вопрос о знании того, достигнет ли активность символизации и аутоэротизма, которые ее питают, объекта и/или качества объектного отношения.
Если она вовсе не находится «под угрозой» через ответы, данные объектом, это означает, что она совсем не обладает ценностью — она не достигла объекта, потому что она, либо ничего, либо немногого стоит.
Если же она «слишком под угрозой» по интерсубъективному свидетельству способов ответа объекта, тогда открывается дилемма возможности выбора между объектным отношением и символизацией, то есть между объектным отношением и использованием объекта: неразрешимая и безысходная дилемма.
«Символизирующий» ответ объекта должен смочь преломить страх и желание: объект показывает себя достигнутым желанием и «выживает» в опровержение страха. Он показывает себя достигнутым тем, что аккредитует реальность операцией осуществляемой сепарации/дифференциации, тем, что «признает» их ценность и их цель, и дает, таким образом, меру изменений, имплицированную вглубь объектных отношений.
Он «выживает» в своих возможностях удовольствия, и позволяет, таким образом, сделать различие между материнской реальностью и действующей психической реальностью в процессе присвоения.
В идеале диалектика двух составляющих развития, дифференцированных с помощью объектного ответа, произведет изменение в объектном отношении, которое будет свидетельствовать о вновь интегрированном опыте, благодаря осуществленной работе символизации. Но ясно, насколько следование работе символизации остается зависимым от способа «сопровождения» объекта, от его внутреннего отражения объектного отношения и от способа, которым объект принимает и терпит использование своих репрезентирующих-репрезентаций, смещенных внутрь игры. В любой момент объект может наложить свое «вето» на осуществляемую работу, которая, таким образом, остается подчиненной признанию фактов.
Предложить объекты для символизации, «пережить» работу символизации, которая осуществляется с объектами, «выжить» в раскрытии аутоэротизмов, и в том способе, которым они смягчают и трансформируют отношение, в свою очередь продумывают его — таковы основные аспекты символизирующей функции объекта и сопровождения работы субъективного и дифференцирующего присвоения, которое она (функция) направляет и делает возможным. Место ответов объекта на это смещение, способ, которым объект их [ответы] обещает и аккредитует, зависят от отклоняющейся от цели функции объекта.
Это естественным образом приводит нас к третьему замечанию, которое мы хотели бы предложить, относительно места функции объекта в первых формах работы символизации. Ретроактивно, использование объектов-символизаторов позволит преломить и проанализировать некоторые первичные характеристики объектного отношения, ставшие, таким образом, «задним числом» очерченными. Игра является анализатором отношения к объекту. Разворачивание игры допускает «задним числом» то, что было конструктивным в значении опыта первой встречи с объектом, то, что может проявиться «в» и «через» работу символизации; оно необходимо для субъективного присвоения самого опыта. Перенос и иное возобновление [деятельности] с другими объектами совершенно необходимо и неотделимо от раскрытия ценности самой репрезентативной активности.
«В» и «через» эту игру может быть «задним числом» лучше дифференцировано то, что зависит от объектного отношения, и то, что зависит от использования объекта. Именно в реализации различие «углубляется» и обнаруживает себя, становится заметным и репрезентируемым. В объектном отношении внутри первичного отношения возвращается то, что подчиняется конфронтации с двойственностью объекта, с неподатливой частью объекта; к использованию объекта, то есть к символизации, напротив, относится то, что исходит из способа, которым объект стер свою двойственность, чтобы служить «для символизации» субъекта или чтобы стать адекватным для этого использования.
Итак, задним числом и благодаря игре самой по себе, разрыв между отношением объекта и использованием объекта станет измеримым, объектное отношение сможет быть освобождено от груза использования объекта, и это использование сможет послужить символизации этого отношения. Что к тому же означает, что этот разрыв связан с данным состоянием работы игры,
и будет модифицирован передовой линией символизации, которая, таким образом, модифицирует объектное отношение. Здесь мы далеки от концепции объектного отношения, которое установится лишь в зависимости от примата той или иной активности влечения, это, напротив, эволюция способностей символизации, которая детерминирует вовлеченный регистр влечения и, как следствие, возможный или доминирующий тип объектного отношения. Объектное отношение и использование объекта находятся, таким образом, в отношении диалектической комплементарности, запускаемой в зависимости от передовой линии и разворачивания символизирующей функции, они являются одновременно дифференцированными и «неделимыми»; нельзя подумать об одной, не ссылаясь на другую.
Игра и не-игра не могут быть поняты отдельно одна от другой, опыт и символизация называются и обозначаются реципроктно и диалектически, тем более что они диалектизированы вместе с отклоняющейся от цели и отражающей функцией объекта, который их признает и таким образом присваивает, или не узнает их и таким образом делает их недействительными, дисквалифицирует их в их прорабатывающей функции.
Вот почему исследование свойств объектов-символизаторов, форм податливого медиума, богато сведениями, касающимися совокупности условий-предусловий, «связанных» с символизацией. Она является одновременно объектом их переноса и в то же время местом «анализа» их дифракции и дифференциации. Способ, которым она «используется», то есть способ, которыми ее различные свойства используются для активности символизации, осведомляют об истории того, что она наследует от первичного раппорта с объектом. Раппорт, который объект поддерживает с ним, несет метку истории раппорта, который поддерживался при использовании первичного объекта, свойства, «подлежащие использованию» информируют нас о том, что могло быть использовано в первичном отношении к объекту; свойства, не подлежащие использованию — о том, что не было доступно для использования первичного объекта.
Но раппорт, поддерживаемый с «податливым медиумом» процесса символизации, также несет на себе свидетельство способа, которым его активность была признана и аккредитована в раппорте с объектом. Это, конечно, возможность иметь доступ к символизирующей функции объекта, становящейся открытой и достижимой через трансфер на символизирующий объект и символизирующую символизацию.
Исходя из трансфера символизирующей функции на символизирующие объекты, становятся интерпретируемыми и анализируемыми, способными к тому, чтобы быть реконструированными внутри регистра использования объекта, особенности способа, которым объект воплощает свою символизирующую функцию. Тем же самым это позволяет усовершенствовать наше представление о коммуникативных качествах, порождающихся «потребностях Я», которые необходимы для будущего разворачивания способностей символизации. Это позволяет уточнить наше «предвосхищение» первичного отношения, необходимое для того, чтобы смог раскрыться регистр использования объекта. Таким образом, нам представляется способ больше «углубить» коммуникативные характеристики, которые «материнские грезы» должны сделать возможными, чтобы подготовить будущее субъективное
присвоение, присущее работе первичной символизации. Концепт «достаточно хорошей» матери, таким образом, уточняется в составляющих деталях и своем сочленении с пресимволизирующей функцией объекта.
В свете того, что преломляет этот податливый медиум, первичная настройка, которая делает возможной организацию первичной иллюзии в найденном-созданном, необходимой для будущего разворачивания символизации и «вещи» символизации, должна содержать различные исчисляемые и уловимые характеристики.
В различных предшествующих работах я начал перечислять различные характеристики символизирующих объектов типа податливого медиума, которые также являются качественными характеристиками отношения первичной настройки, дающие основу будущим свойствам аппарата символизации внутри первичного раппорта.
Я напомню основные элементы:
1) специфическая консистенция (степень «твердости» и «мягкости»);
2) неразрушаемость;
3) схватываемость;
4) трансформируемость;
5)чувствительность;
6)доступность; 7) обратимость; 8)устойчивость; 9)константность.
Это те свойства, которые однажды испытаны, и достаточно испытаны в их пределах, обрисовывающих часть двойственности объекта в пределах символизации, исходя из свойств объекта, — будут перенесены на аппарат символизации и символизирующие объекты с тем, чтобы сделать их используемыми внутри процесса переведения в репрезентации пережитого опыта. Опыт их встречи и их репрезентативного присвоения сформирует уровень специфического опыта субъективности [лежащий] в основе схватывания и внутреннего определения субъективного опыта активности символизации. Их превращения и особенности окрасят опыт символизирующей активности специфическими впечатлениями и уникальным оттенком, отражая, таким образом, историю создания и предела интерсубъективного развертывания.
Итак, исходя из особых модальностей отношения к символизации, — в течение сеанса или в жизни — возможно сделать читаемой ту или иную особенность того, что создало первичный опыт встречи с объектами и уникальностями специфического способа присутствия этих самых объектов, таким образом «реконструируемых», учитывать переодевания, которые история и движение принципа удовольствия-неудовольствия заставляет их претерпевать. Опыт деструкции способностей символизации предлагает задаться вопросом о присутствии первичного травматизма; опыт разрушения объекта или связи с объектом, невозможность пользоваться словами или материей, чтобы символизировать, открывает вопрос доступности объекта; ригидный стереотип формулировок или стиля ставит проблему
чувствования объекта и вопрос зон нечувствительности и т. д.
Разумеется, нет такой столь же прямой эквивалентности между «симптомом», аффектирующим отношение к аппарату символизации, и историей условий встречи с объектом. Но такая гипотеза работы предоставляет возможности, которые будет жаль стирать с самого сначала, во имя сложности реорганизаций «задним числом», под приматом принципа удовольствия субъекта, особенно когда то, что находится на первом плане клинической работы, касается идентичностно-парциссического страдания или остается включенным в компульсию первичного повторения.
В клинических наблюдениях, которые лежат за нашими размышлениями, трансфер свойств первичного объектного отношения на аппарат символизации осуществляется по принципу «красного шара», он включает в себя очень мало психической работы и относительно просто обнаруживает историю травматизации.
Наше размышление, естественно, выходит и на вопрос клинических и технических следствий проблемы использования объекта. Наши последние параграфы подчеркивают открытие работы реконструкции особенностей первичного отношения к объекту, исходя из ее переноса на активность символизации. Вопрос, который встает потом, — вопрос о «психоаналитическом» использовании символизирующей функции объекта и места, которое мы отвели роли ответов объекта на каждом этапе процесса становления символизирующей функции субъекта.
Первое замечание представлено А. Грином, когда он подчеркивает, что аналитик во время сеанса должен привносить тот ответ, который исторически объект не предложил субъекту, тот ответ, который мог бы быть принят субъектом с пользой для интеграции и усвоения своего опыта. Но это первое замечание, хотя и необходимо, мне, однако, не кажется достаточным, поскольку не затрагивает во время сеанса исторические следствия неадекватности ответа объекта, способом, которому объект не поддался, или способом, которым он не мог быть «используем». В моем опыте, и это особенно подходит для анализа нарциссизма и его искажений, тем более необходимо реконструировать, каков был ответ объекта и его последствия на структурирование субъекта. Тогда работа реконструкции касается, и это уже отмечал Д. В. Винникотт, не только процессов субъекта, но и их диалектики с процессами объекта, не только объекта «для» субъекта, но и объекта «в себе». Я знаю, что это порождает многочисленные трудности, особенно касающиеся статуса исторической реальности, таким образом, фактически включенной, однако стоит также подчеркнуть роль структурирующего упора, который такая работа делает возможным.
Как нельзя быть «зачатым» одному в своем телесном бытии, так и психически нельзя «сделать» себя одному; наша психическая организация зависит только от событий и того, как мы их означили, оно зависит также от диалектики, которая установилась между нашими психическими процессами и эхом, которое они обязательно получают со стороны окружения. Мы не более само-порождаемся психически, чем телесно. Первичная сцена содержит столько связанных и интерсубъективных аспектов, сколько она содержит тел с половыми признаками.
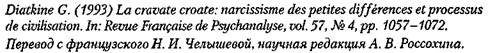 |
Анализ нарциссизма не может избежать того, чтобы вступить на путь реконструкции регистра использования объекта. Но как он не может пренебрегать историей объектного отношения субъекта, так он не может сделать тупиком отношение объекта к субъекту и функции, которую оно заняло в его психической экономике. Вопрос о том, как регистр использования объекта может быть вовлечен в лечение, кажется мне одним из животрепещущих вопросов современного психоанализа.
Жильбер Дяткин
|
|